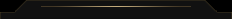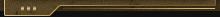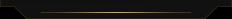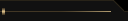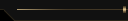| Геннадий Прашкевич
Когда человек уходит, обнаруживаешь массу недосказанного.
Где и когда мы познакомились с Игорем Всеволодовичем, просто не помню.
В прошлом веке. В Свердловске. Может, в
Москве. Может, в толпе фэнов. Вокруг Кира Булычева всегда теснились
люди. Тысячи вопросов, проектов, удивления. А в ответ улыбка, о которой
рассказать трудно. Свет… Но свет, за которым чувствовалось что-то
ироничное… Ни в коем случае не к собеседнику, к себе, это вернее. Будто
в глубине души Кир Булычев именно с иронией относился к своей славе. И
время от времени, снимая некую как бы неуместность торжественности,
изливающейся из многих устремленных на него глаз, он цитировал нечто
необычное…
Вот так, лет пятнадцать назад, совсем в
другой стране и в другом времени Игорь изумил меня, процитировав нечто
воздушное, почти стихи, но прозу, конечно, прозу. Какую-то
необыкновенную прозу, его самого восхищавшую. Что-то совершенно не
похожее на то, что повсеместно цитировали вокруг любители фантастики. Я
долгое время считал, что услышанные слова взяты, возможно, из какого-то
его очередного рассказа, или повести, или романа.
Но нет, этих слов я нигде у него не находил.
Ни Девочка с Земли, ни детективы Кира
Булычева, ни обитатели Великого Гусляра не имели к процитированным им
словам какого-то прямого отношения.
В журнале «Проза Сибири», который я тогда
редактировал, Кир Булычев напечатал рассказ «Пришельцы не к нам», а
затем повесть «Роковая свадьба». Нежное волшебство, каким-то образом
сращенное с самым банальным бытом, иногда становится истинным
мастерством. «Когда Удалов все прочел, он отнес бумаги из конверта Минцу, а
тот сдал их президенту Академии. В конверте находились документы на
выплату пенсии в швейцарских франках родителям и близким всех молодых
людей, которые остались в будущем, чтобы цепь поколений человечества,
вернее той части его, что обитает в Великом Гусляре, никогда не
прерывалась.»
Как это хорошо, и цитата, мучившая меня, витала где-то здесь.
Интересны ведь бывают именно маленькие
тонкости, а не большие преувеличения, как сказал один не очень приятный
Игорю Всеволодовичу писатель.
Улыбчивый, ироничный, сияющий всеми своими
чудесными морщинками, разлетающимися в улыбке, седой, внимательный,
Игорь весьма одобрительно относился к тому, что я тогда писал. И всегда
повторял, что единственный шанс пробиться в советскую литературу — это
не писать так, как пишут советские поэты и прозаики. Многие
средневековые алхимики, напоминал он, были в этом плане достаточно
ограниченными типами. Нужно знать, о чем спрашиваешь, вот что важно, не
раз говорил Игорь, и опять ссылался на алхимиков. Один из них, вызвав
дьявола, страшно затруднился ответить на вопрос, что ему собственно
нужно? И умудрился, наконец, спросить, а что там хотел сказать
Аристотель своей «Энтелехией»? Понятно, Дьявол рассмеялся и исчез.
Придумай вопрос, твердил Игорь.
А я кивал, соглашался, и все никак не
успевал спросить про ту мучившую меня цитату. Ведь мы с ним знали, что
времени нам отпущено много. Раз Бог создал времени много, значит,
хватит и нам.
Не хватило.
Вчера, разбирая книги, уронил одну из них на пол.
А поднимая, вдруг выделил странные слова, среди которых мелькнули те два, столько раз повторенные за последние пятнадцать лет.
«Государыня
села в первую карету с придворной дамой постарше; в другую карету
вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров.
Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный
сафьяновый сапожок, и за княжной полезла ее подруга, озабоченная своим
роброном.»
Вот оно!
Гомеопатическая ножка!
А сказано не сегодня. Даже не вчера. Сказано в 1835 году.
Глубоко убежден, что кто-то вот так же, и в 2035 году, и там, дальше, уронив на пол книгу, увидит вдруг мучившую его цитату.
Но уже из Кира Булычева.
Это и есть главное.
|